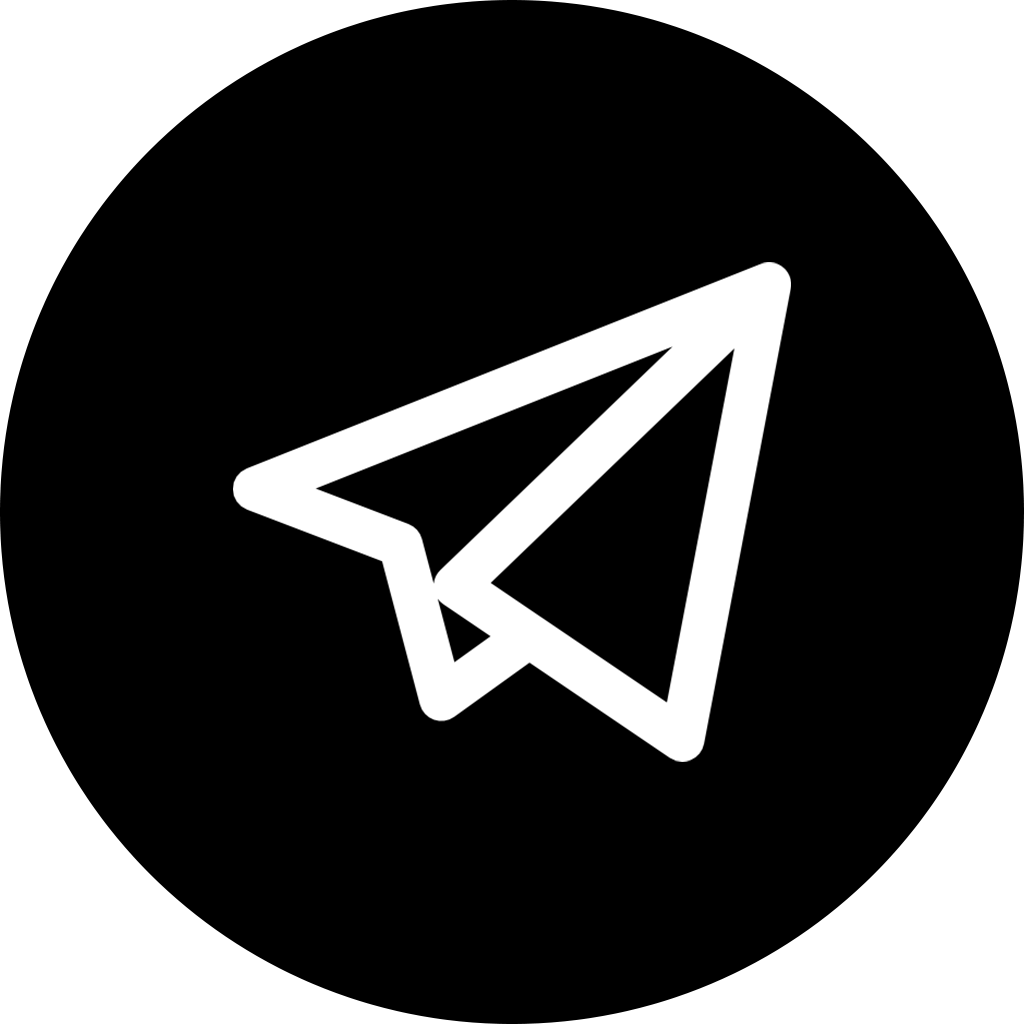«Без постоянных препон мы могли бы делать втрое больше»: интервью трансплантолога Михаила Каабака о ситуации, которая сложилась вокруг его работы

© Фото: Екатерина Григорьева
Два года назад широкую огласку в СМИ получила история трансплантолога Михаила Каабака. Каабак и его коллега Надежда Раппопорт проводят трансплантации почек детям с критически малым весом (до десяти килограммов). Для этого они используют технологию на основе препарата алемтузумаб.
Эта технология, по словам самих врачей, позволяет детям до десяти килограммов с вероятностью в 90 процентов рассчитывать, что пересаженная родственная почка прослужит пять и более лет. При традиционной схеме лечения эта вероятность не больше 75 процентов.
Но алемтузумаб не входит в список препаратов, одобренных Минздравом, и якобы именно из-за использования в работе «запрещенного» лекарства Каабака и Раппопорт хотели уволить из Национального медицинского центра здоровья детей (НЦЗД). За врачей вступились родители маленьких пациентов: они подписали петицию, обратились к журналистам, и ситуация изменилась. В конце 2019 года доктора вернулись на работу, Каабак возглавил отделение трансплантологии в НЦЗД.
Но теперь ситуация вновь обострилась и дело дошло до того, что пациенты Каабака вынуждены мучительно ждать своих операций. Мы подробно поговорили с трансплантологом и выяснили подробности. Интервью было подготовлено за день до того, как мы узнали об увольнении специалиста.
В декабре 2019 года вас вернули на работу в НЦЗД после резонансной истории с отстранением. Как вы прожили год после возвращения, можно ли сказать, что он был благополучным, в том числе по части отношения с руководством?
Не совсем. Уже в феврале 2020 мы столкнулись с первым актом саботажа со стороны администрации. Доставленный по международной программе [она называется «Бесплатное обеспечение алемтузумабом для трансплантации органов» — прим. ред.] для пяти пациентов препарат алемтузумаб администрация запретила принимать аптеке учреждения.
Следом был отказ работать с благотворительными фондами. В соответствии с внутренним регламентом НЦЗД, мы подготовили документы на 18 пациентов [в этих документах было прописано, почему пациентам нужны соответствующие препараты и почему их целесообразно закупить через фонды — прим. ред.], однако закупка препаратов при координации НЦЗД так и не состоялась.
В итоге мы самостоятельно координировали взаимодействие с благотворительными фондами вплоть до апреля текущего года. Но в тот же момент руководство НЦЗД выпустило распоряжение, запрещающее использовать медикаменты, получаемые не из аптеки центра. Это распоряжение полностью остановило нашу работу, потому что все без исключения пациенты, которых всего у нас около 400, получают от одного до нескольких лекарств, которых просто нет в аптеке НЦЗД.
Насколько я знаю, у вас как раз уже были выговоры «за лекарства». Вы можете пояснить, за что именно эти выговоры?
За введение алемтузумаба и экулизумаба, приобретенных благотворительным фондом. Эти выговоры юристы пациентской организации считают незаконными и оспаривают их в суде.
Я правильно понимаю, что вам в итоге разрешили использовать в работе не одобренную Минздравом технологию с препаратом алемтузумаб, из-за которой вас ранее пытались отстранить?
Если не считать актов саботажа, описанных выше, то да. Иных препятствий не было опять же вплоть до апреля, когда врачебные комиссии стали отказывать в разрешении на применение этой технологии, ссылаясь на отсутствие исследований. Но комиссии был предоставлен полный спектр исследований в соответствии со стандартами доказательной медицины. Однако это не помогло. В итоге по просьбе юристов я сделал упрощенный перевод (с английского языка — прим. ред.) этих исследований. Надеюсь, это поможет.
Сколько трансплантаций с момента возвращения на работу вы успели провести и довольны ли вы этой цифрой?
С декабря 2019 мы сделали 48 трансплантаций, 14 от посмертного донора, 34 от родственников. При ежегодной потребности около 300 трансплантаций, в России выполняется около 100. Поэтому 48 трансплантаций за полтора года — это очень немного. Без постоянных препон мы могли бы делать втрое больше.
Вы говорили, что пересадки почек детям в НЦЗД в начале апреля затормозились в том числе из-за работы неких врачебных комиссий. Что конкретно определяют эти комиссии и кто в них входит?
Один консилиум определяет показания к трансплантации. И есть еще две врачебные комиссии: одна для включения данных пациента в лист ожидания трупного органа, а другая — для выбора индукционной иммуносупрессии [препараты алемтузумаб и экулизумаб как раз и входят в эту процедуру, они вводятся пациенту подкожно и внутривенно перед трансплантацией, чтобы вызывать быстрое снижение иммунитета, которое необходимо перед подобной операцией — прим. ред.].
Врачебная комиссия по трансплантации создана приказом директора НЦЗД, а ее председателем является руководитель амбулаторной службы медучреждения. В комиссию входят врачи разных специальностей, но трансплантолог там только один, это я.
А раньше регламент был другим?
Раньше упомянутые вопросы решались дистанционно, изучались документы пациентов, иногда проводились видеоконференции. А теперь пациенту для вынесения вердикта на операцию нужно обязательно приезжать в клинику. Из-за этого операционный процесс также сильно тормозится. Сами изменения регламента произошли после того, как мы указали администрации на незаконность отказывать родственным донорам в дооперационном обследовании и послеоперационном сопровождении.
Сколько детей в настоящее время ждут операции?
В апреле было 31. Двое детей ушли в институт им. Шумакова для трансплантации по обычной методике, одному из них, десятилетнему мальчику, я надеюсь, в ближайшее время будет сделана трансплантация, другой, годовалый малыш, отправлен домой набирать рост и вес, потому что он слишком мал для трансплантации по обычной методике. То есть, сейчас пациенты моего отделения поставлены перед выбором: делать трансплантацию по обычной методике [то есть, без алемтузумаба и без стероидных гормонов после операции — прим. ред.] или ждать разрешения кризиса.
Правда ли, что ваша коллега Надежда Раппопорт уже уволилась из НЦЗД, отказавшись «приходить в операционную в стрессовом состоянии из-за сложившейся ситуации»?
Надежда Раппопорт написала заявление об уходе, чтобы иметь больше времени для наших пациентов. Дело в том, что в отделении [трансплантологии НЦЗД — прим. ред.] пациентов почти не осталось, несколько сотен детей лишились возможности получать амбулаторную и стационарную помощь.
Надежда занимается координацией медицинского сопровождения пациентов по месту их жительства в московских и иногородних медицинских учреждениях. Это требует разъездов и интенсивной коммуникации, осуществлять которую невозможно, находясь в НЦЗД.
Когда был ваш последний разговор с руководством НЦЗД и в каком ключе он проходил?
Полгода назад я написал рапорт директору о недопустимости ограничивать доступ пациентов к препаратам для индукционной иммуносупрессии. Я сказал, что нелепо игнорировать международную программу бесплатной поставки алемтузумаба. После этого контакты прекратились.
Не думали обратиться за помощью к вашим коллегам, например, к Сергею Готье или в Минздрав?
В четверг, 20 мая, общественная палата РФ, комитет по социальной политике, проводит круглый стол по этой проблеме. Приглашены Минздрав, Сергей Готье, администрация НЦЗД.
Что вы намерены делать, если проблема не сдвинется с мертвой точки, например, еще месяц?
Мы намерены продолжать вести диалог с регуляторами здравоохранения. Он идет с конца 2019, пандемия приостановила этот диалог, надеюсь, скоро придет время его возобновить. Что касается обращения в суды, например, в Европейский суд по правам человека, то я думаю, что международные организации не следует использовать для решения внутренних российских проблем. Еще один выход из ситуации — поддержка СМИ и общественности. К ним апеллируют пациенты и их родители. Мы их поддерживаем.