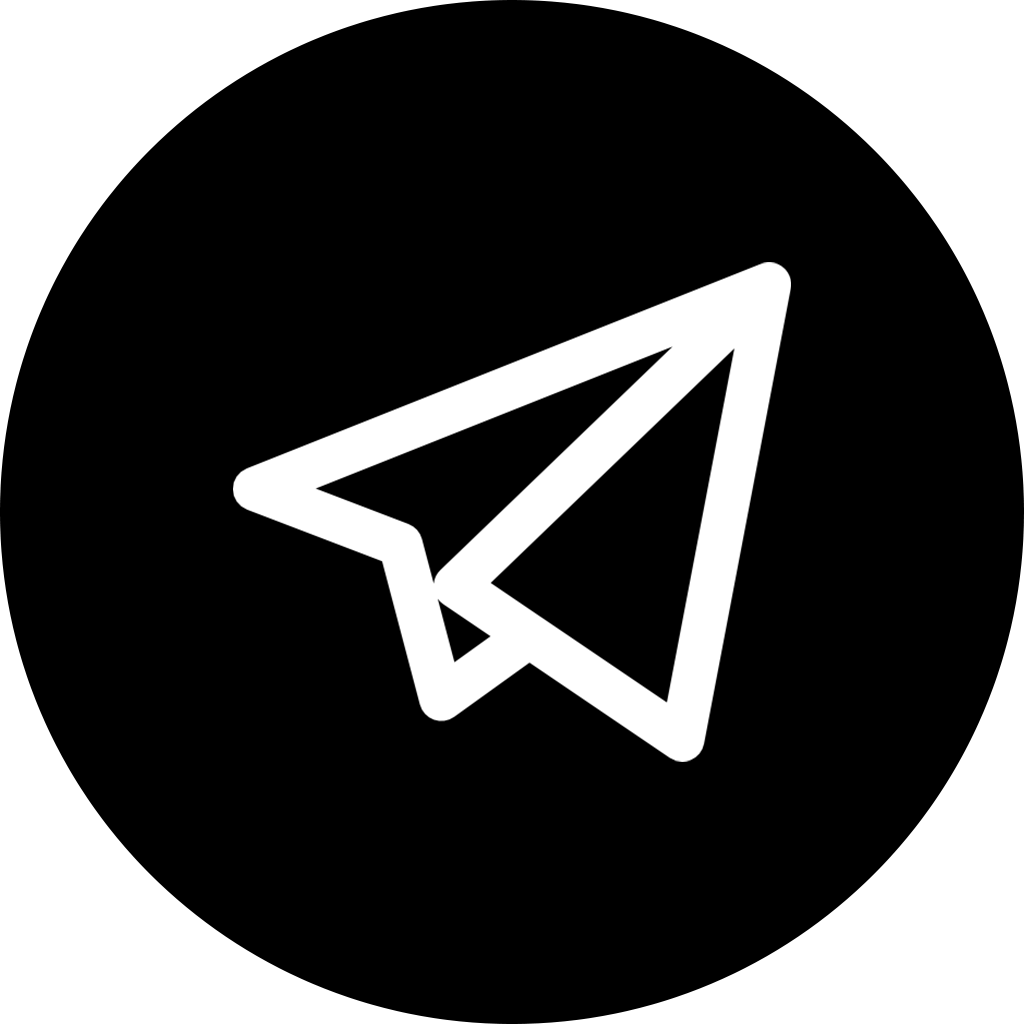«Благодаря детям адаптация в эмиграции происходит гораздо лучше»: тезисы из лекции просветительницы Ирины Якутенко

© You Tube: RTVI Новости
Что говорит наука
Новая видеолекция молекулярного биолога и журналистки Ирины Якутенко посвящена эмиграции. Как отъезд влияет на психическое и физиологическое здоровье переселенцев? Какие факторы можно назвать ключевыми в успешной интеграции? Стоит ли женщинам откладывать выход на работу, чтобы помочь детям лучше адаптироваться к новой жизни?
Ответы на эти и другие вопросы в нашем кратком конспекте выступления Якутенко — кстати, сама она уже два раза меняла страну проживания, но в этой лекции личный опыт оставила за скобками.
Как много людей меняет страну жительства
Эмиграция — гораздо более распространенный процесс, чем кажется. В 2019 году, до пандемии, когда передвижения по миру еще не были стеснены, около 272 миллионов людей переехали из одной страны в другую. Это примерно 3,5 процента всего населения Земли. И этот показатель растет с каждым десятилетием. Если 1970 году количество международных мигрантов составляло 2,3 процента от мировой популяции, в 1990 году — 2,9 процента, то в 2010 году — уже 3,2 процента.
Уровень ПТСР среди беженцев
Что происходит в ситуации, когда люди уезжают из регионов, охваченных войной? Некоторое количество данных об этом было получено в конце девяностых — начале двухтысячных, когда ученые изучали людей, бежавших с Балкан, где довольно долгое время была война, шли бомбежки НАТО, и только потом началось восстановление.
Ученые смотрели на людей, которые убежали с Балкан и сравнивали их ощущаемое и реальное качество жизни с теми, кто остался на Балканах. Через восемь лет после того, как люди эмигрировали с Балкан и обосновались в новых странах, объективное качество жизни их было несколько лучше, чем тех, кто остался в стране исхода.
Однако ощущаемое качество жизни у беженцев и у тех, кто остался, было примерно одинаковым. Это разные по сути явления: ощущаемое качество жизни и реальное качество жизни.
И если реальное качество жизни может быть очень высоким, то из-за того, что человек очень тоскует по родине, или ему кажется, что он не может вписаться, адаптироваться к реалиям новой страны, он может чувствовать себя удрученно.
У беженцев, столкнувшихся со стрессом, вызванным военными действиями, чаще, чем у тех, кто остался, наблюдаются различные психические расстройства, в том числе посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Однако у тех, кто остался, его наблюдают реже. Так, например, ПТСР, встречалось у 33,5 процента людей, которые остались на Балканах, несмотря на продолжающуюся войну. При этом у беженцев процент ПТСР был выше: его диагностировали у 43,7 процента наблюдаемых.
Расстройства настроения встречались у 28,3 процента людей, которые остались, несмотря на войну, и у 43,4 процента людей, которые бежали от войны — то есть здесь разница еще более существенная. Ученые полагают, что это происходит потому, что у что у беженцев к стрессу от войны добавился стресс от эмиграции. И этот двойной стресс оказался непосильным для многих из них и привел к существенным расстройствам психики.
Работа для женщин
Если посмотреть «в общем по больнице», окажется, что людям, которые эмигрировали, тяжелее найти работу, чем местным. Например, в Евросоюзе в 2017 году 13,3 процента мигрантов были безработными по сравнению с 6,9 процента местного населения. То есть разница — примерно два раза. Причем женщинам-мигранткам сложнее найти работу, чем мужчинам. В том же 2017 году в Евросоюзе было трудоустроено только 54 процента женщин, рожденных вне Евросоюза.
Среди женщин, которые родились в этих странах, уровень трудоустройства составил 68 процентов. Трудоустройство мужчин-мигрантов — 73 процента. Среди тех женщин, которым удалось найти работу в Евросоюзе, 40 процентов были чрезмерно квалифицированными (overqualified) — для той работы, которую им удалось найти.
Многие из этих женщин работали нянями, домработницами, были заняты в сфере услуг. При том, что их образование, полученное в стране исхода позволяло им теоретически найти гораздо более высокооплачиваемую работу.
Здоровье
С одной стороны, уезжают и приезжают в другую страну чаще более здоровые люди, и это известный парадокс, который называется healthy migrant effect, то есть эффект здоровых мигрантов, потому что часто уезжают молодые, активные, здоровые люди, — в целом даже более здоровые, чем люди в стране переезда. Однако если посмотреть на здоровье мигрантов спустя несколько лет после приезда, выяснится, что очень часто оно ухудшается по сравнению с показателями местного населения.
С чем же связан такой странный парадокс: что приезжают вроде бы здоровые люди, но через несколько лет они оказываются менее здоровыми?
Ученые этот вопрос довольно хорошо исследовали и выяснили, что здоровье мигрантов портится не само по себе, а опосредованно — то есть оно снижается у тех из них, у кого есть дополнительные факторы, а именно низкий социо-экономический статус, низкий уровень адаптации, низкое знание языка и, как следствие, плохая работа (низкий доход, некомфортные условия труда и так далее).
Без знания языка и денег мигранты не могут полностью использовать возможности здравоохранения той страны, в которую они приезжают — либо потому, что им недоступна страховка, либо потому, что они не могут разобраться во всей этой системе.
К тому же, нельзя сбрасывать со счетов дискриминацию и расизм: например, есть врачи, которые не очень хорошо относятся к пациентам, не умеющим описать свои симптомы из-за низкого уровня владения языком.
Статистика показывает, что у мигрантов зубы часто в более плохом состоянии, чем у местных (это может быть связано со страховкой). Зубы хуже не только у взрослых мигрантов, но и у их детей. И это тоже может быть связано с незнанием языка — особенно в тех странах, где детские страховки включают в себя и обследования у зубного.
Послеродовая депрессия у мигранток
По статистике, у женщин-мигранток чаще возникают осложнения беременности и родов, проблемы в послеродовой период. В том числе и те проблемы, которые в стране миграции давно решены или работа с ними ведется на хорошем уровне. Например, послеродовая депрессия достоверно чаще встречается у женщин-мигранток, чем у местных жительниц. Мигрантки оказываются в социальной изоляции, без поддержки, работы и социальных гарантий — это все может спровоцировать ПРД.
Такие грозные осложнения беременности, как преэклампсия или тромбоз, убивают мигранток в среднем в два раза чаще женщин, родившихся в стране проживания. Опять же, это связано с низким уровнем качества взаимодействия с медицинской системы: женщины попросту не могут донести до врачей информацию о своем состоянии, о подозрениях на заболевания, о беспокойстве. Некоторые не могут обратиться к врачу в принципе — например, это слишком дорого или связано с каким-то культурными особенностями.
Причины не учить язык
Многочисленные исследования показывают, что чем человек старше, тем менее вероятно, что он выучит язык новой страны. Но на самом никаких объективных причин не учить язык нет: приезжий, отказывающийся это делать, ссылаясь на возраст, просто лишает себя возможности к качественной интеграции.
Эмиграция с детьми
Многие полагают, что с детьми адаптироваться в новой стране будет практически нереально, по крайней мере гораздо сложнее, чем если переезжать одному. На самом деле все ровно наоборот: благодаря детям адаптация происходит гораздо лучше.
Потому что когда у вас есть дети, вы должны отдавать их в детский сад, школу, решать какие-то проблемы, которые неизбежно возникнут. То есть вы вынужденно интегрируетесь — на вас влияет внешняя сила, которая заставляет все это делать.
Хотя в моменте все может казаться невыносимым, Якутенко рекомендует не совершать ошибку, которую делают многие мамы в новой стране, — отказываться от работы из-за детей: чем дольше вы избегаете учебы или работы, тем хуже ваши перспективы по прошествии нескольких лет.
О сомнениях и перепадах настроения в эмиграции
Важно помнить, что даже в комфортной эмиграции перепады настроения — в том числе резкие — неизбежны. Будут периоды, когда вы будете говорить себе, что решение о переезде было ошибкой и вам срочно нужно вернуться в страну исхода. Сомнения в будущем или даже уверенность в том, что в новой стране будущего у вас нет — это нормально.
Все это еще в 1954 году объяснил канадский антрополог Калерво Оберг: он связывал все эти реакции с культурным шоком. Первые восторги сменятся стадией постепенного разочарования в стране (эта фаза продлится достаточно долго), и некоторые предпочтут вернуться. Но рано или поздно эта стадия заканчивается и вы приспосабливаетесь, и чем лучше вы знаете язык, тем быстрее это произойдет.